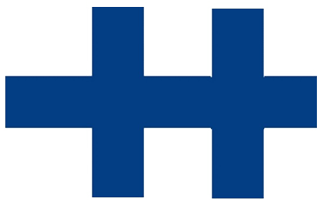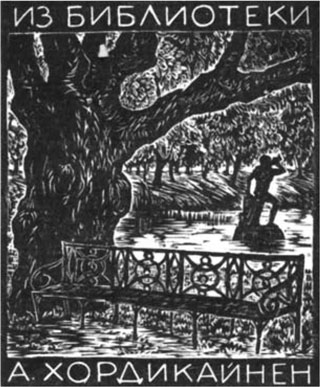Софья Александровна не смогла устоять перед прелестью тобольской резной кости, которую завезли в один из магазинов Уфы, купила сразу на 150 рублей.
Благодаря этому случаю больше двадцати лет рассказывает Софья Александровна Нуриджанова о народном прикладном творчестве в трудовых коллективах, и не только рассказывает, но и горячо пропагандирует в печати необходимость знать, понимать и почитать работы народных мастеров, национальные мотивы в современном прикладном искусстве. Впрочем, и без этого курьезного случая, Нуриджанова пришла бы к сегодняшним своим рубежам, потому что она из породы людей, которые не умеют наслаждаться прекрасным в одиночку. Мысль о том, что открыла для себя самобытный мир народных художественных промыслов, мудрую и наивную прелесть работ безвестных мастеров из Загорска и Палеха, Жостова и Хотькова, а другие ничего этого не знают — гложет ее.
«Знать свое народное искусство — долг каждого. Но даже в школе дети почти ничего не знают о русских умельцах, кроме того, что такие были еще в Киевской Руси. Может быть, кто-то считает, что эта тема недостаточно актуальна? Но многим ли известно, что почти во всех столицах мира есть «русские» магазины, где нашу культуру и искусство представляют изделия народных мастеров. На всемирной выставке в Брюсселе золотые медали присуждены не только заводам, конструкторским бюро, колхозам, но и мастерам-умельцам из разных уголков России. Сейчас башкирские сувениры из капо-корня идут чуть ли не во все страны мира…» — вот такими страстными были первые «атаки» Нуриджановой в газетных выступлениях на тех, кто по лености, ограниченности или загруженности забывает о своих истоках.
«…Открываю дверь: несколько рабочих стучат костяшками домино. Жуют бутерброды, запивая молоком. Нет, тут меня не ждут. Я приехала читать лекцию о народном прикладном искусстве в 20-й цех Уфимского нефтеперерабатывающего завода им. XXII съезда КПСС. Всегда приношу на лекцию полную сумку вещиц из своей коллекции: занятные деревянные игрушки, матрешки, тканые полотенца, расписную деревянную посуду. Молча вынимаю и ставлю их на стол. Стихают удары костяшек. Людей захватывает прелесть и красочность поделок, лекция начинается…» И так каждый раз. Собираются на её лекции вразвалочку, а расходиться — не хотят! Яркий и такой понятный талант народных умельцев в сочетании со страстным, образным словом самой рассказчицы захватывают в плен любую аудиторию.
Сегодня у Нуриджановой большой отряд последователей. Кто-то, довольный, несет в свою коллекцию праздничную хохломскую вазу, некоторые со своими детьми приходят в дом к Софье Александровне, чтобы «потрогать» башкирские тканые полотенца, жостовские подносы, хитрые богородские игрушки, увидеть самую знаменитую матрёшку из Полхов-Майдана.
Несколько лёт назад у подруги на телевизоре Софья Александровна увидела необычную салфетку, оказалось, это концы башкирского тканого полотенца, сшитые вместе. С этого дня началась у Нуриджановой особенная любовь к башкирскому народному творчеству. Она отправилась в только что образовавшееся художественное объединение «Агидель». Познакомилась с ведущими художниками Ю. Игнатьевым, В. Решетниковым, В. Шутовой, 3. Гайслер, с их идеями создать свое, национальное прикладное искусство на исконно башкирских мотивах.
В ту пору в «Агидели» гнали «анютку»—вышивали цветочные мотивы, довольно красивые, но не имевшие никакого отношения к башкирским геометрическим орнаментам и традиционной башкирской вышивке. «Причем тут «анютины глазки»? — спрашивала Нуриджанова со страниц газет художественный совет объединения, Министерство местной промышленности. Она горячо защищает высокохудожественные образцы башкирских прикладников, которые давно получили признание на выставках страны и раскупаются в Англии, Швеции, Франции — а в родной Уфе никак не могут найти широкий путь к покупателю. Было несколько выступлений С. Нуриджановой в местной и центральной печати.
В объединении теперь произошли изменения: для рекламы изделий был создан салон-магазин, лучшие работы мастеров стали экспонироваться на выставках, сократились отвлечения художников на несвойственные им работы, стали ездить в этнографические экспедиции.
Несколько лет Нуриджанова была членом художественного совета и доброй помощницей начинающим мастерам. Когда Вера Мефодьевна Шутова создала свою башкирскую матрешку, она пришла за советом к Нуриджановой, как же назвать эту красавицу? «Конечно, Марьям!» — воскликнула Софья Александровна. Так и окрестили. На ВДНХ СССР Марьям в национальном башкирском костюме получила диплом.
Как велика была радость, когда в 1981 году впервые в практике объединения «Агидель» открылась персональная выставка замечательного художника Василия Андреевича Решетникова. Но, рассказывая о самобытности его творчества в «Вечерней Уфе», Софья Александровна с тревогой напоминает: далеко не всё, сделанное мастером, сохранилось, а иные высокохудожественные образцы так и не тиражируются…
Страстная почитательница башкирского народного творчества, Софья Александровна ни одной выставки не пропустит и обязательно откликнется на такое событие дельной статьей. Осенью прошлого года проходила республиканская выставка произведений самодеятельных художников и мастеров народного творчества в Центральном зале Союза художников БАССР. О ковроткачестве и вышивке башкирских мастериц со страниц «Вечерней Уфы» рассказала С. Нуриджанова. И сотни посетителей выставки были ей благодарны.
В своё время Софья Александровна сделала немало, чтобы самобытные работы башкирских ковровщиц и ткачих попали в поле зрения Дома народного творчества. В 1973 году ей довелось бывать в Альшеевском районе. «Удивительная картина открылась мне, — рассказывала она позднее в статье «О чебенлинских паласах и заботах мастериц», — ткут или старые женщины на седьмом-восьмом десятке, или молодые: Разифа Абдуллина, Гульсум Каримова, Фаузия Раянова… Альшеевский район — старинный центр башкирского ковроделия». Но, как выяснилось, ни одна из мастериц не участвовала в выставках. Даже сами чебенлинцы не представляли, каким обладают богатством.
С. А. Нуриджанова все эти годы работает учительницей русского языка и литературы в школе рабочей молодежи № 26. Учит рабочих треста «Башнефтехимремстрой» любить литературу, понимать прекрасное. Это даётся непросто. Ученики ее приходят за парту после трудового дня, и хорошо, если на уроке повеет чём-нибудь свежим, неожиданным. Так, «для улыбки» Софья Александровна приносила на урок о баснях Крылова богородские игрушки и хотьковские скульптуры из животной кости (цевка).
Подобных маленьких неожиданностей за год набирается немало. А если прибавить, что народному творчеству Софья Александровна посвящает и свои классные часы, то становится ясно: так, исподволь, она развивает эстетическое восприятие своих учеников, учит их уважать талант народа. Вчерашний паренек из башкирского села, приехав в город, отпарывал вышитые концы тканного бабушкой полотенца и прятал в дальний угол чемодана, чтобы не смеялись ребята из общежития. Сегодняшние ученики Софьи Александровны, приезжая на каникулы к родителям, выпрашивают у них старинные башкирские передники и полотенца и, бережно завернув, везут в город — для выставки.
Вечерняя Уфа. Рубрика «Наши авторы». 1985, 4 мая.